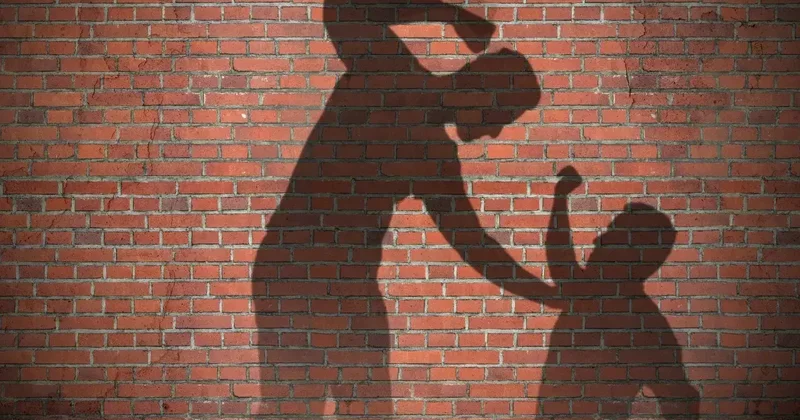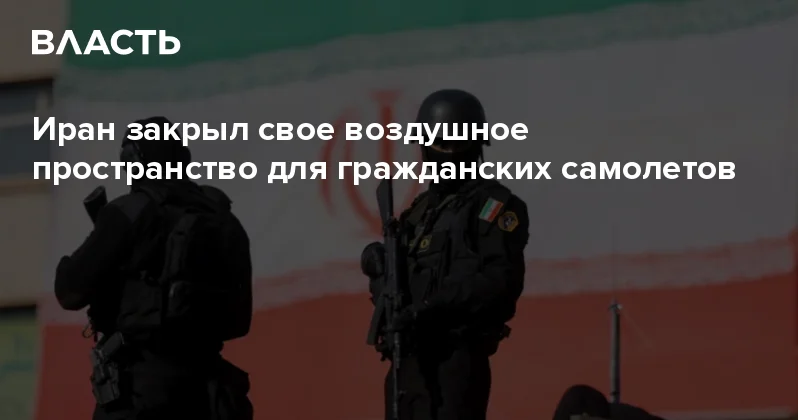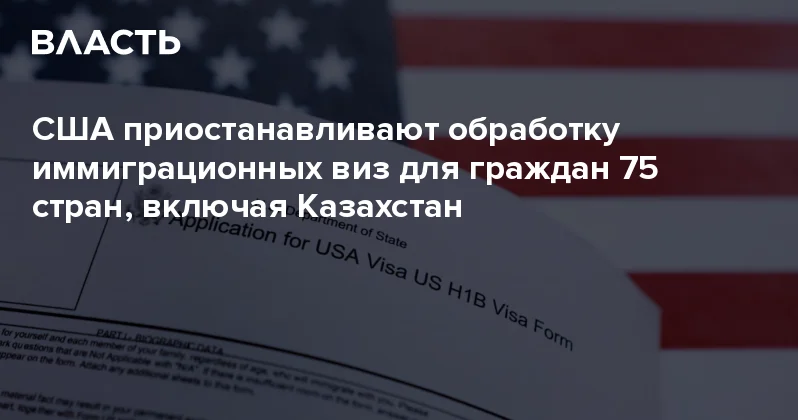Без персональной ответственности чиновников никакой справедливости не будет бизнес омбудсмен
Как передает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Informburo.KZ.
Бизнес-омбудсмен Канат Нуров, чья миссия – защищать предпринимателей от действий властей, заявил, что в Казахстане законы всё чаще принимают без оценки их влияния на бизнес. Он не согласен с тем, что бизнес хоть и получает компенсации за ошибки чиновников, но виновные остаются безнаказанными.
Спикер рассказал о системной проблеме – качестве нормотворчества, когда законы пишутся с нарушением формальной логики и создают юридическую неопределённость, от которой страдает прежде всего честный бизнес.
О глубинных механизмах, которые сегодня формируют отношение государства к предпринимателям, а также о том, насколько законы служат обществу и способны ли они защищать тех, кто движет экономику вперёд, – в материале Informburo.kz.
В Казахстане стало нормой переводить гражданские споры в уголовное поле– Канат Ильич, когда говорят об институте омбудсмена, обычно вспоминают уполномоченного по правам человека или по правам детей. Немногие знают о вашем направлении. Можете пояснить, в чём заключается миссия вашего института?
– Институт бизнес-омбудсмена – важная часть гражданского общества. Его миссия заключается в защите прав предпринимателей и предприятий от неправомерных действий государственных органов. Любое предприятие, будь то ИП, ТОО или АО, является результатом деятельности граждан и, по сути, реализует их гражданские права.
Наш институт уникален: он не финансируется из государственного бюджета, а содержится за счёт Национальной палаты предпринимателей. Это обеспечивает независимость от государства. Однако мои полномочия значительно уже, чем у омбудсмена по правам человека, который имеет конституционный статус.
Мой мандат ограничен Предпринимательским кодексом. Я не могу участвовать в уголовных делах без доверенности, обжаловать судебные решения, если не был стороной процесса, или обращаться в Конституционный суд (КС). Считаю, что в будущем в этой части Конституцию и законы нужно изменить, ведь бизнес также реализует гражданские права и должен иметь доступ к тем же инструментам защиты.
Я защищаю предпринимателей от действий госорганов, когда они уже исчерпали обычные механизмы правовой защиты – обращения в госорганы. В таких случаях обращение к бизнес-омбудсмену за помощью в судах становится последней надеждой, поскольку институт подчиняется президенту.
В год поступает от полутора до трёх тысяч обращений, помочь удаётся примерно в половине случаев.
Сферу вмешательства я сознательно ограничил: не рассматриваю споры по тендерам и госзакупкам, где преобладают рыночные принципы и споры между предпринимателями. Моя цель по мандату – защита прав предпринимателей и недопущение их нарушений впредь.
Важное направление работы – совершенствование регулирования. Если нормативный правовой акт ограничивает конкуренцию или мешает развитию бизнеса, я могу вносить предложения по его изменению. В этом и заключается общественная, правозащитная и системная роль бизнес-омбудсмена.
– Какие из кейсов, с которыми вы работаете, указывают на системные проблемы, требующие изменения правил игры, а не точечных решений?
– Недавно КС рассмотрел резонансное дело, связанное с обвинением предпринимателей в участии в ОПГ. Хотя формально Конституционный суд не вправе вмешиваться в законодательство, он по моему представлению рекомендовал Верховному суду и правительству внести изменения, чтобы корпоративные структуры не приравнивали к ОПГ.
Этот пример показывает, что даже без прямых полномочий можно добиваться системных изменений. Мои медиативные действия – обращения, запросы, переговоры позволяют выстраивать диалог с государством и добиваться решений, которые защищают и иногда даже восстанавливают права предпринимателей. По сути, я выполняю роль медиатора между бизнесом и властью, то есть участвую в переговорах и стараюсь решать конфликты мирным путём. Многое удаётся благодаря тому, что институт бизнес-омбудсмена подчинён президенту и обладает определённым политическим весом.
– Какие новые типы жалоб вы замечаете в последние годы?
– Основная проблема в том, что в Казахстане стало почти нормой переводить гражданские споры в уголовное поле. Например, партнёры или акционеры не могут договориться между собой, и в дело вмешиваются правоохранительные органы – полиция, Антикор и другие. В результате обычный имущественный спор превращается в уголовное дело без достаточных оснований.
Это серьёзная проблема. Мы даже не можем оценить её масштаб, потому что статистика случаев перевода гражданских дел в уголовные отсутствует. Как только гражданское дело становится уголовным, оно выпадает из общей системы учёта гражданских дел и появляется в учёте уголовных. А таких дел, к сожалению, немало.
Нередко подобное происходит по инициативе самих предпринимателей – достаточно обвинить партнёра в мошенничестве, и гражданский конфликт сразу приобретает уголовный характер. Государство воспринимает его уже не как спор между людьми, а как дело "против вора или мошенника". В результате начинаются задержания и давление.
Часто этот механизм используется как инструмент борьбы с конкурентами. Один предприниматель, имеющий связи, может инициировать уголовное преследование другого, чтобы устранить его с рынка.
Особенно тревожны случаи, когда уголовные дела возбуждаются даже по хозяйственным гражданским спорам с госструктурами. К примеру, предприниматель продал товар или оказал услугу по законно заключённому тендеру, а позже госорган решает, что цена была "завышенной" – и вместо экономического спора начинается уголовное расследование. Хотя на самом деле ответственность должна лежать не на предпринимателе, а на чиновниках, которые этот договор подписали.
Дело АбдыгаппаровыхПроблема перевода гражданских споров в уголовные дела сегодня особенно остра. Один из показательных примеров – дело семьи Абдыгаппаровых и Esentai City в Алматы. Это крупный жилой комплекс, вокруг которого несколько лет идут конфликты между инвесторами.
Изначально это был обычный корпоративный спор между партнёрами, который должен был решаться в гражданском порядке. Однако он превратился в уголовное преследование. Бизнесмена Алмаза Абдыгаппарова обвинили в хищении и осудили по формальным признакам, хотя фактического ущерба компании не было. Речь шла лишь о внутренних расчётах между акционерами. Позже контроль над компанией перешёл к другой группе лиц, которые осуждены в делах об ОПГ именно по этому делу.
Теперь под следствием находится его супруга – бизнесвумен Ольга Абдыгаппарова. Её обвиняют в якобы мошенничестве из-за заключения мирового соглашения с мужем, чтобы он погасил долг перед компанией (что он и сделал), и за якобы растраты по квартирам, которые даже не были проданы и до сих пор числятся на балансе компании. Независимый аудит подтвердил, что все средства использовались по назначению – на строительство. Объект готов почти на 80%, и дольщики могли бы получить жильё, если бы ей позволили завершить проект.
Дело КурумбаевойЕсть ещё один не менее абсурдный случай – дело Зауре Курумбаевой. Это та самая предпринимательница, которая производила спортивную форму для нашей национальной сборной. В 2022–2023 годах её ИП "79-й квартал" выполнило два государственных заказа на пошив спортивной формы для сборных команд Казахстана. В 2023 году для Азиатских игр ИП поставила комплекты из трёх наименований (рюкзак, бейсболка, кроссовки). Помните, тогда все говорили: наконец-то, хорошая форма, наконец-то, не та, что рассыпается. Все признали качество, все аплодировали.
Суд признал Курумбаеву виновной в соучастии в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершённом группой лиц. И вот теперь её сажают на три года и взыскивают с неё 400 миллионов тенге солидарно с другими участниками, несмотря на то что она возместила треть ущерба. При этом потерпевшая сторона – Комитет по делам спорта и физкультуры – не имеет к ней претензий. Совершенно невероятно.
Госорган сам обратился к ней в 2022 году с просьбой срочно (за два месяца) изготовить форму, хотя другие компании делали бы это минимум полгода. Она за свой счёт разработала дизайн, закупила материалы, взяла на себя все расходы и риски, лишь бы страна не опозорилась на международных чемпионатах.
Когда работа была выполнена, ей начали ставить условия: "Мы тебе не заплатим, пока ты не переведёшь часть денег через посредника". Предпринимательнице пришлось отдать около 160 миллионов, чтобы получить оплату. Она вернула долги, завершила поставку, но вскоре против неё возбудили уголовное дело.
И что происходит дальше? Следствие запрашивает "экспертное заключение" у её конкурентов – у компании BLS Group, которая сама участвовала в тендерах и не смогла тогда выполнить заказ. Эти "заключения" были специально запрошены задним числом, уже после выполнения контракта, и в них конкуренты заявили, будто форма Курумбаевой стоила слишком дорого, хотя сами подавали свои реальные предложения по иным, более высоким ценам. На основании этих сомнительных документов её обвиняют и фактически наказывают за то, что она принесла пользу государству. Я считаю, что это фальсификация.
Она сделала всё честно: выполнила заказ, спасла репутацию страны, создала качественный продукт. Но вместо признания получила приговор. И это, я считаю, недопустимо.
Главная проблема в том, что сегодня правоохранительные и судебные органы нередко трактуют прибыль, полученную при работе с государством, как преступление. Но прибыль сама по себе не является преступлением! Она может быть таковой только тогда, когда доказана связь предпринимателя с чиновником, который установил цену. Если такой связи нет, то бизнес просто выполнил заказ и заработал, – это не повод его сажать.
Дело КоккозовойУ нас есть и другой, не менее показательный случай – дело Ляззат Коккозовой. Вы, наверное, слышали: именно она организовывала по заказу Российской Федерации и Казахстана форум с голографией. Никто до этого не мог реализовать подобный проект, все были в восторге от результата, хвалили её за профессионализм и качество работы.
А потом её осудили за то, что якобы цена закупки оборудования оказалась выше среднерыночной. Но ведь эти самые "среднерыночные" цены были специально запрошены уже в рамках уголовного дела, задним числом, когда событие давно прошло. Люди, которые готовили эти заключения, сами потом на суде признались: да, расчёты были неточными, многое не учли, данные ошибочны. И несмотря на это, Коккозову всё равно приговорили к сроку.
Как в таких условиях заниматься бизнесом в стране? Наши предприниматели, по сути, герои. Они вкладывают собственные деньги, рискуют репутацией, работают ради результата и интересов государства. А потом, спустя годы, им говорят: "Твои цены были выше среднерыночных", и на этом основании возбуждают уголовное дело. Хотя никакой связи между предпринимателем и чиновником, который утверждал контракт, не доказано. И вот это, я считаю, самое страшное.
Дело Иманова и Оракбая– Вы говорите, что практика уголовного преследования бизнеса возникла не на пустом месте. С чего всё началось?
– Всё началось с одного дела, с которого, по сути, и пошла эта волна. С кейса двух молодых предпринимателей из Караганды – Биржана Иманова и Султана Оракбая.
Бизнесмены поставили фермерам солнечные панели за свой счёт. Чтобы компенсировать затраты, они договорились с фермерами, что те передадут им право на получение государственных субсидий. Те согласились, подписали приходные ордеры, подтверждающие, что тем самым они оплатили панели, – просто чтобы поставщики оформили документы и получили их субсидии, это требовалось по правилам.
Никакого ущерба государству не было. Все панели на месте, работают. Фермеры довольны, чиновники Министерства сельского хозяйства, которые принимали документы, тоже. Но предпринимателей посадили на шесть лет, обвинив в подделке приходных ордеров и получении субсидий по завышенным ценам.
Хотя, по сути, они воспользовались максимально разрешённой ценой, указанной в паспорте субсидий. Да, среднерыночная цена была немного ниже, но это не преступление, потому что закон допускает диапазон. Тем не менее именно эту разницу посчитали ущербом.
Генпрокуратура тогда подала кассационный протест, чтобы их освободили, заявив: если нет ущерба для государства и фермеров, если предприниматели не являются стороной договора по субсидиям – нельзя считать их виновными. Но Верховный суд не согласился.
В решении ВС написали, что фермеры "не понесли затрат", потому что не заплатили деньгами. Хотя это юридически неверно – они понесли затраты путём взятия обязательств, вследствие чего передали право на получение субсидий. Более того, один из предпринимателей в колонии подвергся жестокому обращению, его избивали – пришлось обращаться к Уполномоченному по правам человека, чтобы добиться перевода в другое учреждение и спасти ему жизнь.
Дело Армана СмаиловаИменно после этого решения Верховного суда, где впервые признали разницу между фактической и "среднерыночной" ценой основанием для уголовного преследования, началась эта волна. Тогда общество промолчало, и мы пожинаем плоды. Теперь под удар может попасть каждый предприниматель.
Ещё один пример перевода гражданского дела в уголовное – это история с брокерской компанией. У неё были директор Хамраев и акционер Смаилов. У компании был клиент, очень влиятельный человек, который решил купить акции на внебиржевом рынке. Он сам подписывал приказы на покупку, сам переводил деньги со своего счёта продавцу. Сделка не состоялась – акции он не получил. И что происходит? Он обвиняет брокера. Хотя брокер, по сути, просто посредник, как банк: принимает деньги от клиента и переводит их контрагенту.
Тем не менее директора компании заключают под стражу. Даже не допрашивают – просто берут и лишают свободы. А вместе с ним и акционера Смаилова. Хотя акционер вообще не отвечает за действия менеджмента. Это нонсенс! Компания начинает гасить убытки, хотя юридически не обязана этого делать. Они уже погасили около 70% суммы, но их всё равно удерживают под арестом.
Это вопиющее нарушение принципов права. У нас в законодательстве чётко прописано: акционер несёт ответственность только в пределах своего вклада, а не за действия директора. У юридического лица есть имущественная обособленность – и это основа предпринимательского права. Но у нас этот принцип игнорируется. Людей лишают свободы просто потому, что кто-то из владельцев должен быть "виноват".
Сейчас дело Хамраева и Смаилова находится в кассации. Мы пишем обращения, поднимаем этот вопрос, но пока всё словно в стену упирается. Руки опускаются.
Чиновнику максимум объявляют выговорВозможно, придётся обращаться напрямую к президенту, потому что это уже не просто ошибка, а системная несправедливость.
– Часто в этих делах звучит, что чиновники не несут персональной ответственности. Это системная проблема?
– Абсолютно. Закон предусматривает дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности, но на практике всё это не работает. Суд может вынести лишь частное определение, да и то по желанию, а не в обязательном порядке. В итоге чиновнику максимум объявляют выговор, хотя из-за его решений ломаются судьбы и бизнесы. Более того, если государство возмещает убытки предпринимателям за неправомерные действия госорганов и судов, то по факту оно редко взыскивает эти убытки с виновных должностных лиц.
Я намерен обратиться в госорганы с предложением закрепить право предпринимателей и граждан напрямую взыскивать убытки и ущерб с должностных лиц, виновных в нарушениях, как с частных граждан, исполнявших публичные функции без сложной процедуры регрессных требований через ответственность за них государства. Сейчас так не делается, только в рамках уголовных дел допускается возмещение дополнительных гражданских исков, поэтому поток ошибочных и отменённых решений не прекращается.
Механизм персональной материальной ответственности чиновников фактически не работает.
Но если его вдруг запустить всерьёз, например, обязать административные суды давать частные определения в отношении неправомерных действий чиновников, то, по мнению руководства ВС, работать в системе госуправления попросту будет некому. Но лично я так не считаю.
– Почему система не меняется?
– Потому что не действует механизм регрессных исков. Государство выплачивает предпринимателям компенсации, но не взыскивает ущерб с виновных чиновников. Я сейчас готовлю обращение, чтобы предприниматели имели право предъявлять такие иски напрямую – как к частным лицам, исполняющим публичные функции. Иначе без персональной ответственности никакой справедливости не будет.
– Участвовал ли Антикор в этих делах и было ли давление на госорганы?
– Я не могу утверждать однозначно, но, судя по характеру многих решений, влияние силовых структур ощущается. И, конечно, это оказывает огромное психологическое давление и на госслужащих, и на предпринимателей.
Я уже говорил: я в шоке от масштабов произвольного правоприменения. Знал, что проблемы есть, но не думал, что они зашли так глубоко, что стали системными. Это напрямую бьёт по бизнес-климату.
Регуляторное давление имеет два уровня. Первый – прямые затраты предпринимателей на исполнение бесконечных требований и проверок. Второй – страх. Страх, что в любой момент можно оказаться под следствием, даже если ты ничего не нарушил. Это колоссальный эмоциональный стресс.
Предприниматели не ангелы, они ищут прибыль. Но их ценность в другом: они инвестируют свои деньги, двигают экономику, создают рабочие места. И страшно, когда их сажают не за преступления, а за действия их менеджеров или просто за успешную сделку.
Эта атмосфера давления разрушает бизнес-среду. Да, есть улучшения, но 2025 год станет лакмусовой бумажкой: станет ясно, идём ли мы к доверию или окончательной утере веры бизнеса в государство.
Особенно тревожит непредсказуемость налоговой политики. Сначала один проект Налогового кодекса, потом вдруг другой, без связи с предыдущими обсуждениями. Хорошо, что президент вмешался и помог найти компромисс по ставкам. Теперь осталось урегулировать последние вопросы по налоговому администрированию.
Налоговый кодекс против МСБ– Какие именно вопросы не урегулированы?
– Речь идёт о непринятии бизнесом на налоговые вычеты расходов от субъектов специального налогового режима, то есть от МСБ, работающего по упрощённой декларации. Если этот предприниматель не платит НДС, то крупный бизнес, покупающий у него товары или услуги, не сможет включать эти расходы в налоговые вычеты по корпоративному подоходному налогу на прибыль. Это создаёт дискриминацию: крупные компании будут избегать сделок с малым бизнесом, потому что им это просто невыгодно.
Малый бизнес итак работает по упрощённой схеме, платит 3–4% с оборота – и в этих процентах уже заложены все налоги: и НДС, и КПН, и ИПН. Он платит их в другой форме, но платит же. Поэтому неправильно с юридической точки зрения лишать крупный бизнес права учитывать такие расходы. К тому же это решение идёт против самой идеи поддержки МСБ и приведёт к его вытеснению с рынка.
Сейчас бизнес находится в состоянии сильного напряжения, прежде всего из-за нестабильности налогового законодательства.
– Государство много говорит о привлечении иностранных инвестиций и защите инвесторов. Но при этом с отечественным бизнесом, как мы видим, происходят совсем иные вещи. Почему так?
– Конечно, ненормально заботиться об иностранных инвесторах и при этом оставлять без внимания свой бизнес. Но, знаете, даже иностранные инвесторы у нас не защищены так, как хотелось бы.
Вот, к примеру, случай с крупным малайзийским инвестором. Инвестор вложил несколько миллиардов тенге в развитие участка этой госкомпании, провёл коммуникации, построил инфраструктуру. Но из-за просрочки арендного платежа в 700 тысяч тенге участок у них просто забрали. Формально – всё законно, но, по сути, это абсурд. Люди вложили огромные деньги по факту, а землю отняли по чисто формальным основаниям.
Я, конечно, заступился, требовал рассматривать по существу, а не по букве, но понимал, что по нашим реалиям они проиграют. В итоге малайзийского инвестора вот так наказали. И если даже иностранцы не чувствуют защиты, то что говорить о наших предпринимателях?
– Какой вы видите роль бизнес-омбудсмена через пять лет – это всё ещё защита от перегибов или уже полноценный инструмент развития?
– Моя задача – системная защита прав предпринимателей. Не отдельных кейсов желательно, а всего предпринимательского сообщества. Потому что утонуть в частных жалобах легко, а вот изменить систему сложнее, но важнее.
Я считаю, что нужно менять нормативную среду, а не бесконечно устранять последствия её дефектов. Мои рекомендации правительство слышит. Например, я добился, чтобы по новому НДС не было его предоплаты, чтобы сделки не признавались недействительными без реальной проверки. Или чтобы нельзя было аннулировать действующие предприятия без законной процедуры ликвидации, ведь это нарушение принципа имущественной обособленности юридических лиц и прав добросовестных контрагентов –неплательщиков налогов.
Так что главная цель – сделать систему справедливой, а не реагировать на нарушения постфактум.
Сейчас мы, в принципе, нашли понимание с Министерством финансов по ряду вопросов. Они согласились, что предоплата по НДС должна применяться только к одной категории компаний с высоким уровнем риска неуплаты налога. Также разрабатывается специальная матрица рисков, которая позволит более точно определять такие случаи. Это важный шаг, потому что отмена сделок без проверки их действительности и предприятий без гражданского процесса ликвидации – абсурдная практика. И, как я понимаю, в этом направлении тоже будут изменения.
Кроме того, председатель сената Маулен Ашимбаев пошёл навстречу моим предложениям по перерасчёту индивидуального подоходного налога. Раньше планировалось сделать его задним числом – с 2025 года, хотя новые ставки вводились только с 2026-го. Теперь этот пункт отменён, и за это я действительно благодарен.
– Какие ещё вопросы остаются нерешёнными?
– Есть ещё одна системная вещь, которая, на мой взгляд, очень опасна. Это так называемый анализ регуляторного воздействия (АРВ). Это инструмент, который был введён по инициативе президента и предназначен для того, чтобы оценивать влияние любого законопроекта на бизнес, экономику и общество. По сути, АРВ – фильтр, который должен отсекать непроработанные, сырые или избыточные нормы.
Во всём мире – это обязательная процедура: прежде чем принять закон, оценивают, увеличит ли он административную нагрузку, создаст ли новые барьеры, приведёт ли к избыточным издержкам для предпринимателей? Без этой оценки не принимается ни один серьёзный экономический документ.
Но у нас из-под действия АРВ вывели два самых чувствительных направления – Налоговый и Таможенный кодексы. Формально это объясняют тем, что, мол, эти кодексы имеют "общий характер" и "не являются прямым регулированием предпринимательской деятельности". Но это, простите, лукавство. Любое изменение налоговых правил напрямую бьёт по бизнесу. Это и есть регулирование предпринимательства в чистом виде. В этой части эти кодексы должны проходить АРВ.
Именно из-за того, что Налоговый кодекс прошёл без полноценного анализа регуляторного воздействия, мы сейчас и имеем хаос со ставками, пересчётами и правками задним числом. Результат налицо: бизнес не успевает адаптироваться, теряет доверие и уверенность в завтрашнем дне.
Я считаю, что возврат Налогового и Таможенного кодексов под обязательную процедуру АРВ должен стать принципиальным шагом. Если мы хотим стабильной, предсказуемой правовой среды, то без этого механизма невозможно. АРВ – это не бюрократия, это элемент ответственности государства перед бизнесом.
– Сейчас часто говорят, что у предпринимателей появилась возможность отстаивать свои права в судах. По вашим наблюдениям, действительно ли административная юстиция работает или госорганы находят способы обойти её требования?
– Одно из важнейших достижений последних лет – это введение административной юстиции. Президент сделал большой шаг, позволив гражданам и предпринимателям оспаривать действия госорганов через специальные административные суды. Раньше такой возможности не было, теперь она появилась.
Но некоторые госорганы пытаются выйти из-под действия адмюстиции, из-под Административно-процессуального кодекса. Например, тот же АЗРК (антимонопольный орган) вывел свои проверки из-под этой юрисдикции. Теперь их решения оформляются не приказом, а резолюцией на бумаге, и суды принимают аргумент, что это "не административный акт". Хотя это чистой воды административное действие.
Похожая ситуация и с налоговым администрированием. Это ведь не налоговая политика, где речь идёт о ставках и преференциях, а процедура взимания налогов – то, как эти решения исполняются. Некоторые пытаются вывести и эту сферу из-под адмюстиции. Хорошо, что президент чётко заявил: этого не допустим, и пока удалось удержать. Но я уверен, такие попытки будут продолжаться.
– То есть сопротивление реформам идёт больше со стороны исполнительной власти?
– Конечно. Судебная система во многом остаётся зависимой от исполнительной. Она просто легализует действия госорганов судебным образом. А основное сопротивление реформам идёт именно от исполнительной системы – от старой бюрократической модели, где государство контролирует всё и всех.
Президент ясно обозначил цель: опора на частную инициативу, либерализация экономики. Но ломать старую систему очень трудно. Государственный аппарат у нас стал мощной корпоративной группой. Чиновники сегодня зачастую богаче предпринимателей. А предприниматель, по сути, превратился в подчинённый государственной бюрократии класс.
Мы социальное государство, и это правильно. Но когда огромные госрасходы не связаны с реальным производством, это превращается в чёрные дыры, отсюда и инфляция. Деньги вливаются в экономику, но без товарной отдачи. Вот почему президенту приходится буквально преодолевать сопротивление системы, чтобы эти реформы заработали.
– Законодательные инициативы вы можете вносить по собственной инициативе?
– Формально я имею право действовать и по собственной инициативе, но в большинстве случаев всё начинается именно с обращений предпринимателей. Например, дело Марата Жупказиева, который оспаривал конституционность статьи 262 Уголовного кодекса об ОПГ и соответствующего постановления Верховного суда о признаках ОПГ. Он обратился в Конституционный суд и ко мне, я подготовил своё заключение. Проблема в том, что у нас нет чёткого определения понятия "организованная преступная группа", и из-за этого предприниматели рискуют попасть под статью, не имея отношения к реальному преступному сообществу профессиональных бандитов.
– Не создаёт ли уточнение понятия ОПГ риска, что настоящие преступные группы смогут маскироваться под бизнес-объединения?
– Исключено. ОПГ – это неформальное объединение физических лиц, созданное для профессиональной бандитской деятельности и насильственного контроля над бизнесом. Это не компания и не корпорация. ОПГ – это не тот, кто ведёт бизнес, а тот, кто принуждает бизнес к "сотрудничеству". Поэтому предприниматели, даже если оказались вынуждены взаимодействовать с мафией, – это жертвы, а не участники ОПГ.
Да, преступники могут создавать фирмы для отмывания денег, но если персонал предприятий не участвует осознанно в криминальной структуре, они не становятся ОПГ. Члены мафии не занимаются предпринимательством – они его контролируют.
– И какие выводы сделали предприниматели из решения КС?
– Они, конечно, вздохнули с облегчением. Суд подтвердил: не каждое экономическое нарушение – это ОПГ. Например, если человек уклонился от налогов, это не делает его участником вооруженной преступной группы. Суд дал важный сигнал, что нельзя отождествлять хозяйственные нарушения с мафией.
– Это решение уже действует в законодательстве?
– Пока это только решение КС, но оно имеет обязательную силу. КС признал, что статья УК и постановление ВС об ОПГ в целом соответствуют Конституции, но указал на необходимость уточнить само понятие ОПГ. Он прямо рекомендовал ВС пересмотреть признаки ОПГ, потому что сегодня критерии вроде "устойчивости" и "иерархичности" применяются слишком широко. Но главный признак ОПГ – это профессиональный бандитизм, а не совместное совершение преступлений.
И пока этого различия нет, любую "группу лиц" преступников называют "организованной группой" или "преступной группой", имея виду ОПГ (вооружённую преступную группу). Отсюда и абсурдные приговоры: бизнесменов сажают как участников мафии только потому, что они работали в компании с другими людьми в организованной группе с корпоративной иерархией и структурой.
Я считаю, что государство должно чётко зафиксировать: ОПГ – это профессиональные бандиты, совершающие насильственные преступления, а не предприниматели, допустившие налоговые нарушения. Иначе мы рискуем сажать тех, кто создаёт рабочие места, а не тех, кто действительно контролирует криминальный бизнес.
– И всё же, в чём вы видите корень большинства проблем, о которых мы говорили, от уголовного преследования до правовой неопределённости?
– Самая системная проблема в качестве нормотворчества. У нас часто нарушаются правила формальной логики при формулировке правовых понятий. А ведь юридическая определённость возможна только тогда, когда понятия сформулированы корректно. Если в определении явлений не даются родовые и видовые признаки явления, если нарушена формальная логика, значит, нарушена и правовая определённость.
Вот пример – определение ОПГ. Оно построено с нарушением базовых логических правил, и поэтому возникла вся эта путаница. Юридически – это просто группа людей, совершивших преступление, а по сути это профессиональные бандиты. Но в законе это не разведено. В итоге страдают предприниматели.
Или другой пример. В Предпринимательском кодексе перепутаны понятия "субъект" и "объект контроля". По логике субъект – тот, кто контролирует, объект – тот, кого контролируют. А у нас это не так. Субъект – это то, что живое, а объект наоборот "мёртвое имущество".
Соответственно, предприниматели и даже предприятия это не объекты, а субъекты контроля. Из-за этого по всем смежным законам идёт искажение: выходит, будто предприниматель сам себя контролирует, а госорган – просто наблюдатель. Это абсурд. Но система сопротивляется даже исправлению таких очевидных ошибок. Поэтому я убеждён: если мы хотим правовую стабильность, нормотворчество должно подчиняться формальной логике. Это не абстрактная философия, а основа юридической точности.
Все эти проблемы я обобщил в Стратегии защиты предпринимательства, она согласована с Нацпалатой и Администрацией президента, направлена президенту. Надеюсь, эта работа принесёт практический результат, чтобы больше ни один честный предприниматель не страдал от нелогичных и произвольных норм.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:112
Просмотров:112 Эта новость заархивирована с источника 15 Октября 2025 13:48
Эта новость заархивирована с источника 15 Октября 2025 13:48 

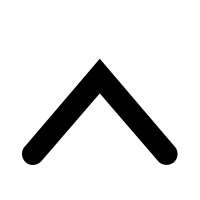

 Войти
Войти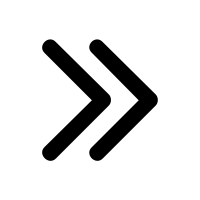
 Новости
Новости Погода
Погода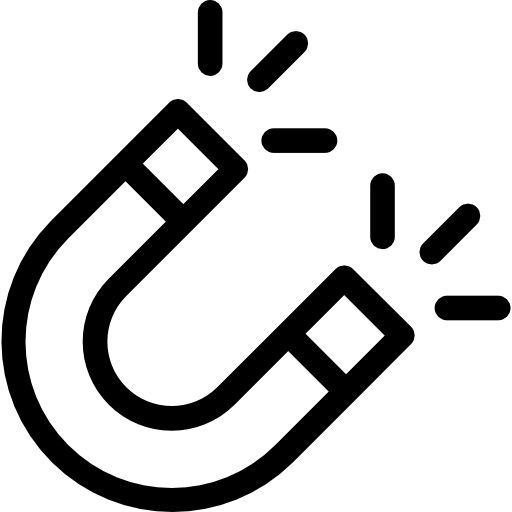 Магнитные бури
Магнитные бури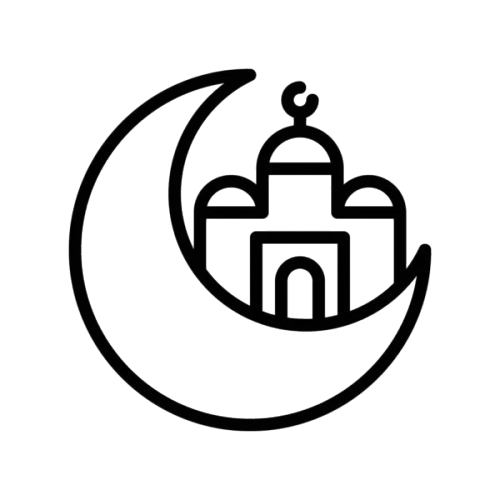 Время намаза
Время намаза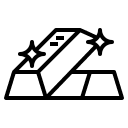 Драгоценные металлы
Драгоценные металлы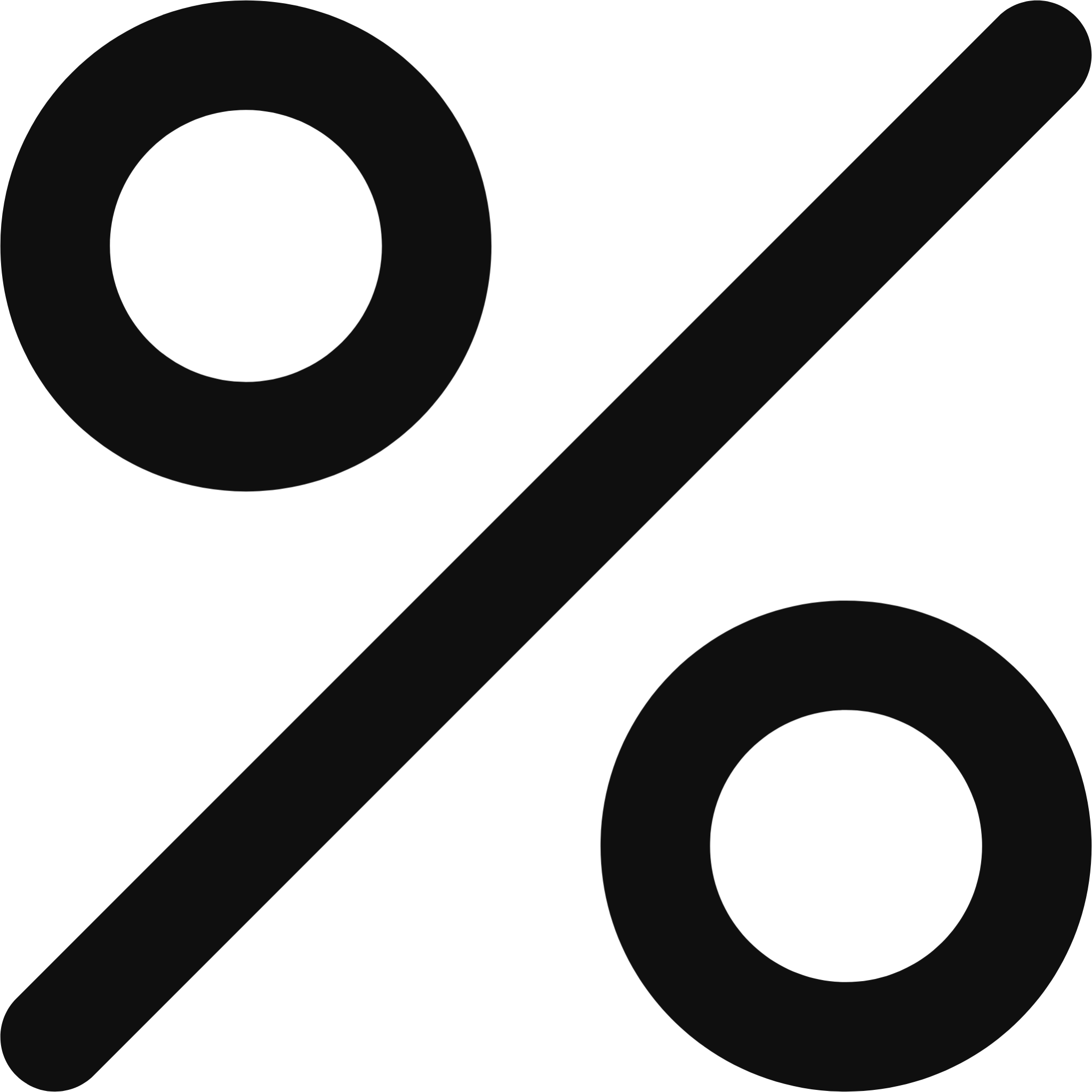 Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор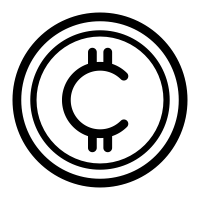 Курс криптовалют
Курс криптовалют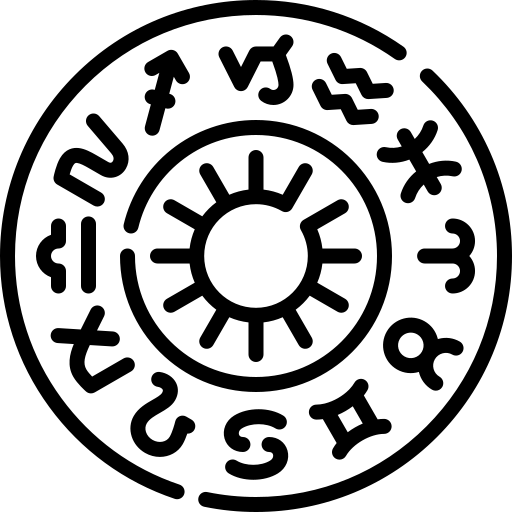 Гороскоп
Гороскоп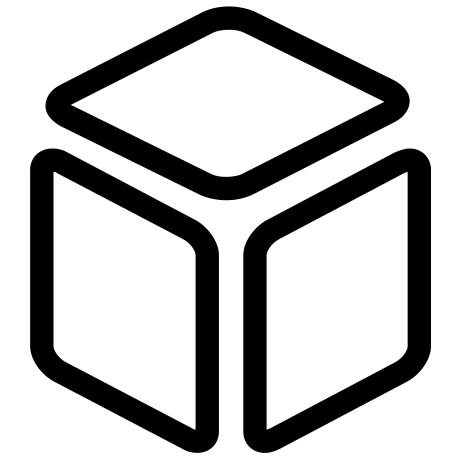 Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Казахстана
Радио Казахстана Казахстанское телевидение
Казахстанское телевидение О нас
О нас


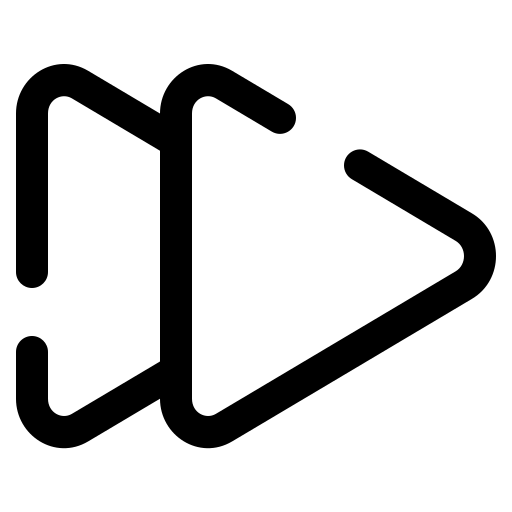

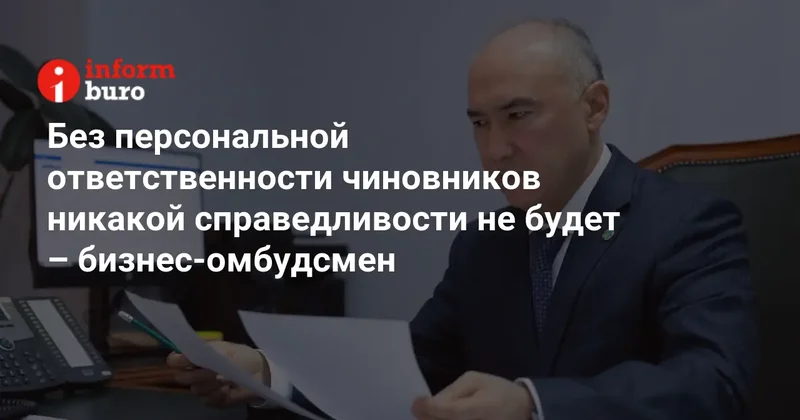


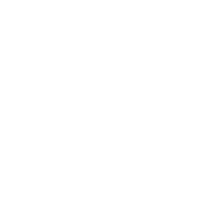
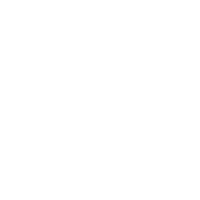


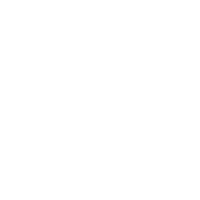


 Самые читаемые
Самые читаемые